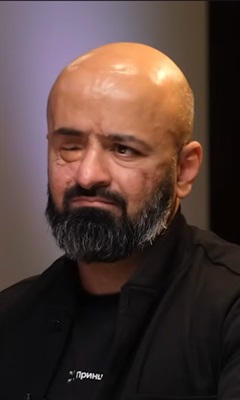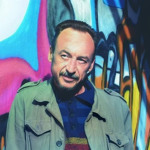Архив украинского медиа-арта. Честное искусство Луганского медиа-артиста Антона Лапова

С медиа-художником мы поговорили о его творчестве, начиная со становления его проектов lap0fvw, Pjotp Tatamoви4 и Anton Lapov и заканчивая тем, что происходит сейчас.
- Давай начнем с истоков, откуда появился Anton Lapov и откуда взялся Pjotp Tatamoви4? Чем занимаются оба?
- Лапов появился из 2004-2005 годов, времен, когда мы тусовались с группой «1/16 трактора» (луганский коллектив, прогрессивно опередивший местную сцену и игравший трип-хоп и пост-рок — авт.). Был такой странный проект «Босяки Лапова», в нем принимали участие участники разных коллективов.
У меня уже был интерес к манипуляциям со звуками и вот тогда с «1/16» я делал первые шаги, вдохновляясь экспериментальными образцами, популярными тогда — Portishead, Bjork и первые альбомы IDM, которые доставал в легендарном магазине «Мелодия» в Луганске.
Уже тогда у меня были мысли, как сделать сольный проект. Было стремление воссоздать звуки как у Autechre (шотландский коллектив, пионеры и одни из создателей направления Intelligent Dance Music — авт.), ранний IDM и тд. Первые такие выступления случились в конце нулевых.
 Лапов - диджей
Лапов - диджей
- А кто тогда Pjotp Tatamoви4?
- Этот проект родился, когда в луганском арт-кафе «Донбасс» начались тематические вечеринки. Первая из них была приурочена к 8-битной волне, у меня возникла идея посэмплировать любимые ретро-игры той эпохи и сделать диджей сет. Потом мне предложили поучаствовать в поэтроническом проекте Metabooky в подобном качестве.
И параллельно я пытался делать ивенты, связанные с инициативой в том же «Донбассе» под называнием «Label Day». Ее основал не я, но впоследствии перенял, и это были вечеринки, посвященные разным лейблам или группам.
Под каждое мероприятие, помимо посиделок с демонстрацией какого-либо концерта, я в конце играл музыку, которая напрямую была связана с темой этого дня. Например, показывал первый фильм Джармуша и играл ноу-вэйв с лейблов того времени. Если это был фанк, то показывал концерт Parliament-Funkadelic и играл фанк.
Постепенно у меня накапливался огромный диджей-сет, составленный из разных фрагментов, и я начал смешивать элементы из разных эпох. И, собственно в этом и состояла суть проекта, чтобы как можно круче угореть, смешивая реггей с грайндкором и так далее.
https://www.youtube.com/watch?v=SQ4Mo50ns-U
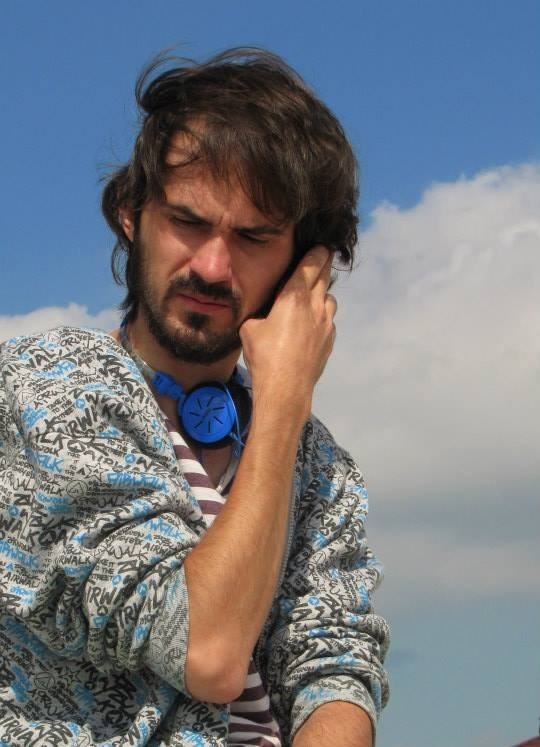
- Что на что лучше всего ложится? Например, с чем лучше всего сочетается панк?
- Реггей вот на самом деле лучше всего сочетается с брейкбитом, группа «Кирпичи» с ноу-вэйвом. А вообще из супер-находок — это электро-фанковый Херби Хэнкок начала 1980-х, под которого я подложил записи украинских бандуристов.
 Процесс творчества
Процесс творчества
- А сейчас Антон Лапов кто? Диджей, live electronics, музыкант и композитор?
- Нет, сам сложнопроизносимый lap0fvw — это одно воплощение, а вот с приставленным именем, Anton Lapov — это уже совсем другая история, которую я сейчас расскажу.
На определенном этапе я связался в Харькове с одной компанией, в частности, художником Иваном Светличным, известным скульптором и электро-панк группой «Свитер». У нас родилась с ними коллаборация, в которой еще принимал участие басист Кеда из «1/16».
У Вани была серия объектов, которые он называл «Царапки», это такие деформированные, исчерченные царапинами металлические листы. Я предложил все это дело усилить при помощи контактного микрофона и пропустить через цепь примочек. Все это тогда было предложено под влиянием японского нойза, а иначе как экспериментальный музыкант тогда я себя не ощущал.
Мы это все задокументировали и это видео попало к украинскому арт-куратору Янине Пруденко. Она еще в 2008 году основала ресурс «Архив украинского медиа-арта». И вот в 2011 она после этого перформанса пригласила нас на странное мероприятие, которое было посвящено ретроспективе того, что происходит сейчас в украинской ветке этого направления. И вот тогда я и понял, что, оказывается, делаю искусство.
https://www.youtube.com/watch?v=XacnR0SSS_w

Этот ивент был очень интересный, проходил в киевском «Кристалл-холле» и это была церемония награждения премии Мухи — молодых украинских художников. Мы с Иваном выступили там с этим номером и на четвертой минуте нас попросили, так как звучал в этих апартаментах по сути harsh noise (шумовая музыка с плотным, абразивным и однообразным звучанием — авт.).
Организаторы нам сказали - хватит. И такая ситуация с одной стороны хороша, а с другой - нет. Это показывает, что наша среда запаздывает и не раскрепощена. А это мешает узнавать о том, что происходит не только в собственном мирке. Ведь такие вещи, как техно-искусство, медиа-арт, давно уже стали во всем мире мейнстримом.
Все это послужило определенным стимулом для того, чтобы я начал применять всякие креативные технологии в своей практике и опыт научного сотрудника Луганского Краеведческого музея, где я работал с 2011 по 2014 годы. В 2012 году по моей инициативе мы провели там первую акцию в Ночь Музеев, которая называлась «Примитивы будущего». И там уже я пытался применить какие-то технологии, проекции. Событие было посвящено взаимосвязи развития искусства и примитивизма в самом широком понимании.
 Инсталляция
Инсталляция
https://www.youtube.com/watch?v=p6QBkwOuOWs
- Насколько этот проект получил отклик в украинском и мировом арт-сообществе?
- Сложно сказать. В Луганском сообществе точно да. Стало понятно, что вообще что-то можно сделать на музейном пространстве, кроме того, чтобы водить нудные экскурсии, не меняющиеся со времен брежневского застоя. Мои коллеги теперь были подготовлены. Это с одной стороны.
А с другой — я показал художникам, что необязательно ломиться куда-то в Харьков или другие большие города, когда можно что-то делать в своем родном городе, так как есть какая-то площадка для активных действий. На тот момент я знал очень мало про подобные примеры с небольшими городами и развитием арта в немецком Лейпциге или польском Кракове.
В 2013 году уже познакомился с подробностями таких примеров, когда не в центральных городах развивается искусство, и туда едут художники и другие деятели от арта, и созрел для следующего проекта «Разгерметизация музейного универсума». У меня даже была стратегия.
Мне нужно было такое мероприятие, чтобы в моем резюме появился соответствующий пункт, и можно было податься тогда на грант, как это не прискорбно, Фонда Ахметова. У него была довоенная программа по финансированию музеев. Фонд выдавал гранты на индивидуальные художественные проекты. И тогда многие считали, что он заменил Министерство культуры, что, в принципе, недалеко от правды.
И вот была отдельная программа, в которой средства выдавались на развитие инфраструктуры музеев. И у меня тогда была такая амбиция. Более того, была инсайдерская информация, что фонд ждал заявок от Восточной Украины, так как в основном подавалась только Западная. Там уже тогда были все эти NGO, и они более активными в этом плане были всегда. Тем более, в сфере музейной деятельности.
Подробно с проектом можно ознакомиться на его официальном сайте.
https://www.youtube.com/watch?v=8Fzc8qXrT_k
- В итоге, чем закончилась история с грантом и какой был резонанс?
- Мне тяжело судить о последнем, так как я был инициатором, то есть не буду объективным. И, ты же знаешь, какое время тогда настало, спустя месяц после окончания «музейного универсума» начался Майдан.
Для меня весь проект закончился очень интересным событием. Я инициировал после круглый стол — обсуждение с одной стороны музейными работниками, а с другой - культурными активистами, такими как Алексей Бритюк, Алексей Бида. Я сделал еще презентацию из серии «Як воно в Європах є», и каждый тогда говорил о своем, но никакой чрезмерной конфронтации не было. Настроение было такое, что мы хотим продолжать. И это возможно. Я посчитал тогда это главным выводом.
Мне повезло, что я был в хороших отношениях с администрацией музея, его директором, который, между прочим, и сейчас там все еще директор. И он тогда занял позицию - нам не мешать. Мне кажется, это была лучшее, что он мог тогда сделать.
Я позарился на функции, которыми занимается с советских времен отдел под названием что-то типа «массово-пропагандистской работы». А тут бы, наверное, все это называлось PR-директор или менеджер проектов. Но, в традиционной «советской» структуре музеев все равно нет такого человека.
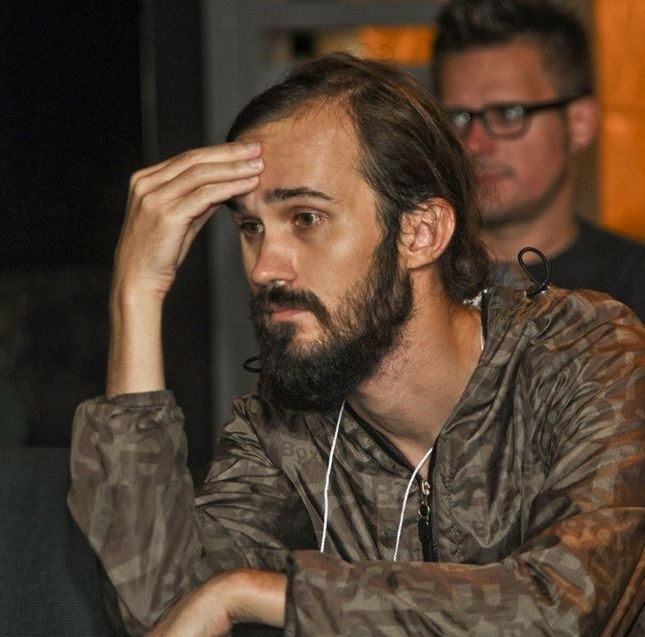
- Что было в твоем 2014 году?
- В определенной степени изменилась повестка дня. Вся, не только политическая. Потом, осознавая все жесткость положения, я четко помню тот день, когда услышал за окном автоматную очередь, и началась перестрелка. В этот момент я что-то делал по виджеингу. И вот для меня открыт этот «софтверный мир», а тут неподалеку от драмтеатра такое происходит.
В этот момент я понял, что пора с этим что-то решать. Я закрыл ноут, выключил свет, лег такой, переждал перестрелку, и все — у меня уже родилась четкая идея, что пора сваливать. Тогда, можешь себе представить, какая была психологическая атмосфера! Это был июнь 2014 года, но еще до «Градов». И, завершая этот Луганский период, я не отказываюсь от своих слов до сих пор — тогда в плане искусства и культуры все могло очень хорошо развиться, до европейского уровня, если бы не приход «русского мира».
- Были предпосылки для дальнейшего культурного роста?
- Конечно, были попытки у группы энтузиастов сделать что-то в заброшенном цехе бывшей обувной фабрики. Мы с Алексеем Бидой (луганский культуртрегер, активист Евромайдана сейчас работает в Хельсинкой правозащитной группе — авт.) уже вели переговоры, чтобы привезти кого-то из заграницы и провести ряд проектов на неиспользуемых пространствах, которые остались после индустриального периода.
 Инсталляция
Инсталляция
Несмотря на то, что подобную инициативу никто не поддерживал, вся ситуация дошла до той фазы, что мог произойти какой-то культурный рывок. Но пришел «русский мир» и сопутствующие ему расклады. Я не испытываю никакую злость или агрессию, это просто досада. Были тогда идеи пригласить в Луганск массу разных арт-деятелей после «универсума». Все-таки глобализация, общение молодежи, все уже в интернете, общий вектор сместился в правильном направлении развития. Нет уже такого, что кто-то кассету привез из Питера и ее бегом все переписали.
- Ты приехал в Киев подготовленный, уже знал, что куда-то позовут?
- Еще в Луганске мы участвовали в одном киевском проекте. То есть, уже были поданы заявки в киевские институции и нас уже позиционировали как луганских художников. Мы выставляли в Киеве инсталляцию.
Вышеупомянутый проект «Царапки» мы еще презентовали на первом киевском Биеннале и нас начали больше приглашать участвовать в разных проектах.
- Когда ты первый раз попал за границу и как? Ты подал на гранты и реализацию каких-то задумок или они сами позвали?
- Вместе с Яниной Пруденко мы участвовали в одном проекте. Его финансировали поляки, и он предполагал больше образовательный контекст, но и выставочный тоже. Все это глобально делалось в рамках ЕС, выделялись деньги на приграничное сотрудничество, и польская сторона выступала координатором. Если конкретно - мы с работали с Департаментом культуры города Люблина.
К участию были привлечены области, ближе всего находящиеся к западной границе нашей страны: Ровненская, Ивано-Франковская и Тернопольская. Янине предложили прокурировать выставку в Люблине, которую я субкурировал в месте с ней. И мне еще предложили координировать серию воркшопов в этих трех областях, которые проводились бы на оборудовании, закупленном за деньги Евросоюза.
С моей точки зрения все получилось неплохо. Мы организовали по 10 воркшопов в каждом городе, очень разнообразная программа от 3D-принтинга и робототехники до мастер-класса по диджеингу и того, как собрать собственный синтезатор. И все это для детей и молодежи. Тьюторы были из разных регионов.
Например, в Тернополе, есть мой хороший приятель Ярослав Качмарский, который устраивает фестиваль экспериментальной электронной музыки «Гамселить». Он привлек своих людей. В Ивано-Франковске более олдовая тусовка, тоже виджеинг и сопутствующие вещи. Вот, в Ровно, правда, я никого не нашел.
- Когда же началась твоя активная заграничная фаза?
- И вот после выставки в Люблине, где я был не только субкуратором, а еще и выставлялись мои работы, после нее, в 2016-2017 годах, я начал активно принимать участие в выставках за рубежом. В частности в 2016 году я два раза участвовал в выставке во Вроцлаве. А этот город-побратим Львова был Европейской столицей культуры, и многие львовские кураторы привлекали украинцев для участия в выставках.
 Выставка
Выставка
- А за что ты жил все это время?
- Целый год, до моего культурного менеджмента, я существовал еще в Киеве в рамках прежнего дискурса музейного работника. Работал в одном районном музее столицы. Денег, конечно же, не хватало. И это стало одной из причин, благодаря которой я окончательно завязал со своим пятилетним периодом музейной деятельности.
 Лапов - научный сотрудник
Лапов - научный сотрудник
Не могу сказать, что положение такого «вольного художника» мне до сих пор полностью нравится. Но на несколько лет я обеспечил себя различными гонорарами за участие в разного рода арт-проектах. Конечно, они связаны с международными грантами. Потому что, к сожалению, только участие в таких проектах позволяет каким-то образом выживать в Украине.
Тут в ближайшее время вряд ли предвидеться участие в каких-нибудь выставках, чтобы потом можно было позволить себе спокойно жить полгода.
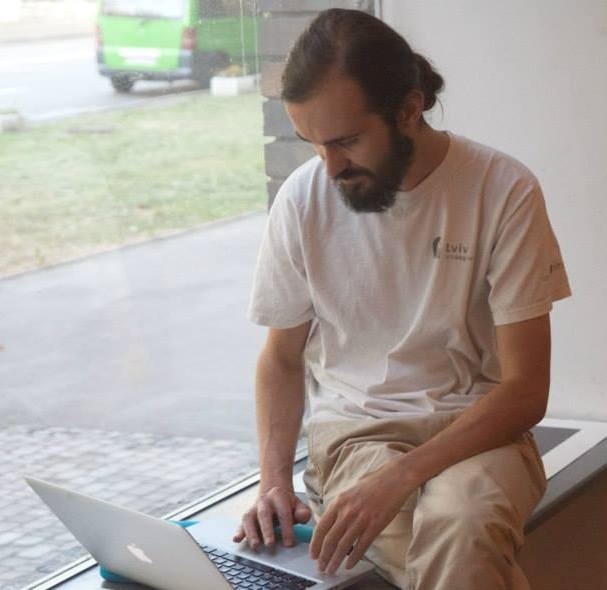
- В завершение про Лапова — ты упомянул Фонд Ахметова, «русский мир» и при этом вопросы политики у нас получилось как-то обойти. Ты назвал вещи своими именами, абсолютно не стесняясь и не выкручиваясь. Скажи теперь, пожалуйста, современный художник, выходец с Донбасса, например, может ли быть вне все этих событий, будучи гражданином или все-таки художник часть политического процесса, потому что он формирует культуру?
- Ближе ко второму твоему утверждению. Скорее всего, быть вне политики вообще невозможно. Даже инертная позиция — это тоже политическая позиция. Конечно, культура, политика и экономика очень взаимосвязаны и события, для меня лично, 2014 года сделали такое видение наиболее контрастным и явным. Хотя, конечно, постепенно от этого устаешь. И то осознание, которое, я думаю, получили многие в Украине, те, кто занял активную позицию, испытывают чувство сопричастности.
https://www.facebook.com/delfinafoundation/videos/1841400085882892/
Если человек принимает участие в деятельности культурных институций, то он вовлечен и в политический процесс. А если это художник, оторванный от всех этих процессов, находится, например, в какой-то коммуне, и он абсолютно самодостаточный, не хочет входить в инфраструктуру искусства (галереи, гранты, проекты и тд), если он избегает контактов такого рода, то он, скорее всего, вне политики.
А так, если ты даже рисуешь тюльпаны, но при этом выставляешь их в галерее и вроде бы как это аполитичный фигуративчик, все равно ты принимаешь участие в общественных процессах. Потому что галереи кем-то финансируются, за что-то существуют, платят налоги, аренду и так далее.
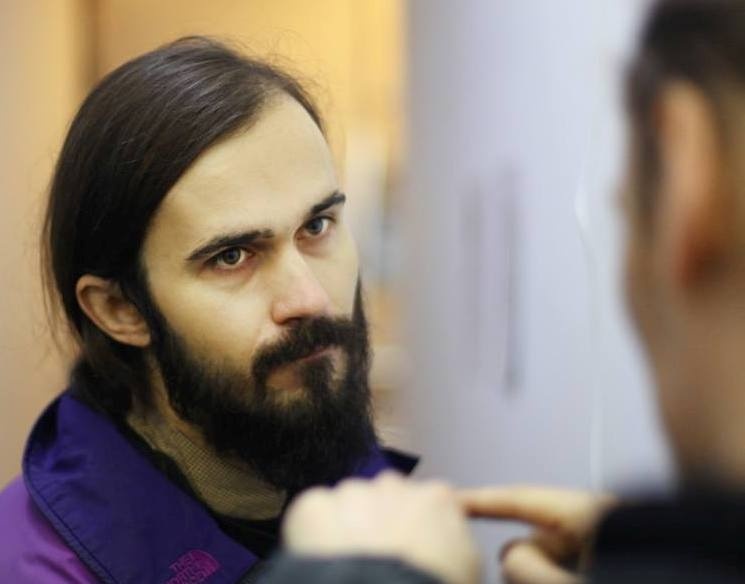
- Что такое успешный художник сейчас?
- Так как все уже слишком резко поумнели, и Украина уже нормально вписалась в Европейский контекст, успешный художник — это одновременно антрепренер, энтерпрайз компани, менеджер или, при достаточном количестве денег, нанимающий себе менеджера и еще руководитель производства. Но все это, если расценивать художника с позиции профита, прибыли. Но в силу идеалистичности своей позиции я склоняюсь оценивать не успешного, а хорошего художника с позиции честности.
Если я чувствую, что какое-то произведение честное, то это хороший художник. А если это произведение из разряда «на горячую тему», сделано людьми для того, чтобы подстроиться под условия какого-то гранта, то это всегда читается.
Прикол успешного художника в том, что бы, в силу постоянной неопределенности, быть максимально оппортунистом. То есть максимально быстро перестраиваться к новой конъюктуре. Я не считаю это хорошим признаком и пытаюсь от этого отстраниться. Не уверен, что у меня это получается, но все проекты, которые я делаю, конечно, пропущены через призму моего опыта, полученного в Луганске и в том же решающем для многих людей 2014 году.
Я получал несколько отзывов, что то, что я делаю можно назвать честным искусством — для меня это лучший комплимент.