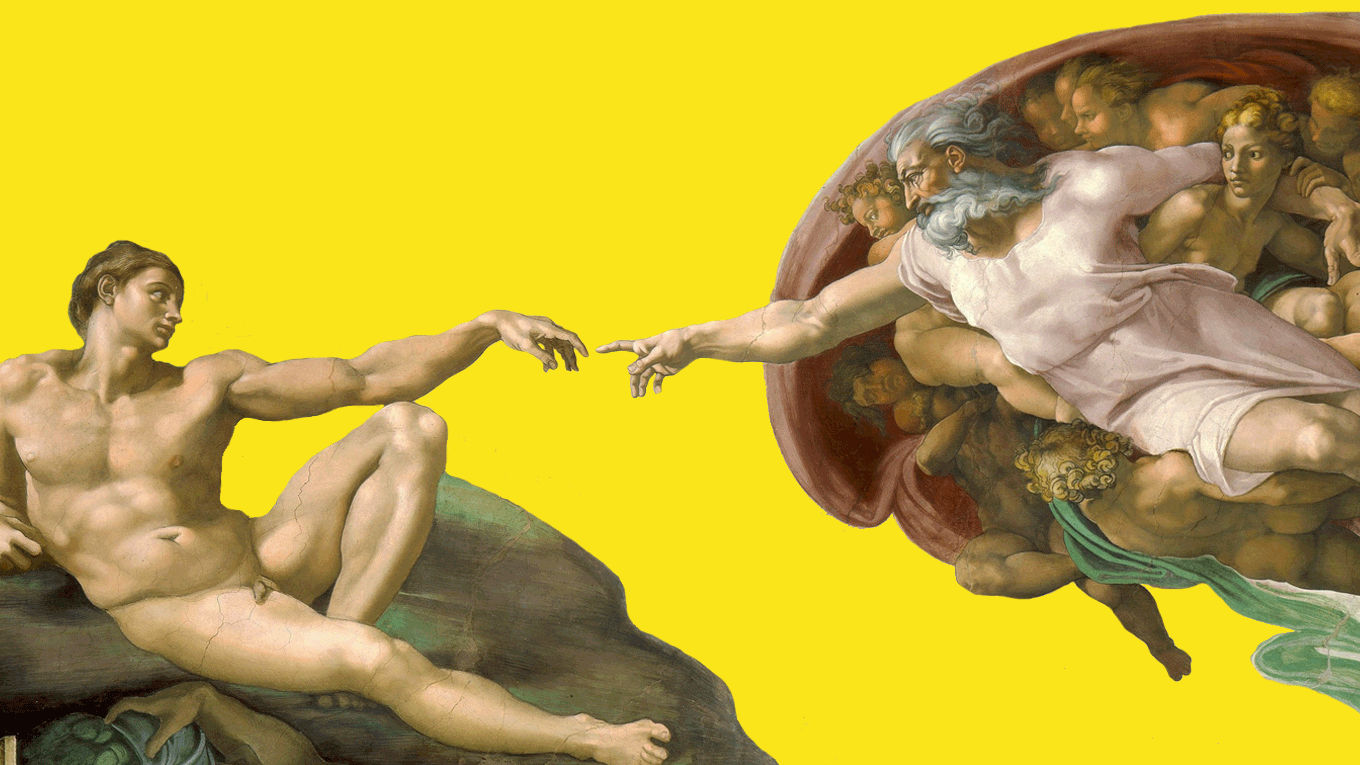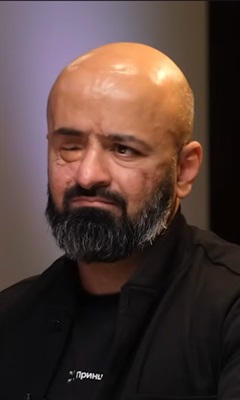«Корректировщицу взяли! Мы тут ее разденем, маячок поищем»: публикуем главу из книги «Время снов»

Военный корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов дебютировал как писатель книгой о снах и войне на Донбассе.
«Я видел революции и войны, снимал теракты и протесты по всему миру. Но Донбасс — это другое. Это слишком близко. От этого не закроешься камерой. В каком-то смысле, Донбасс — это символ. Ибо все войны изнутри выглядят одинаково: это страх, страдания, потери и смерть. Война — это коллективный кошмар, от которого почти невозможно очнуться, — отметил писатель. — Мы все, в некотором смысле, живем во Времена снов».
Роман «Времена снов» построен на четырех сюжетных линиях. Судьбы нескольких героев объединяет одиночество и поиск смысла жизни в мире современных украинских реалий, глобального политического кризиса, излома человеческой идентичности. Это книга о внутренней борьбе, которая происходит в каждом из нас.

Свои.city c разрешения автора публикуют эпизод из книги (а если появится желание, «Время снов» можно приобрести на сайте издательства «Саммит»)
*****
На окраине тарахтели пулеметы, остатки ночного боя. «Далеко, — подумала я. — Можно не беспокоиться». Заставила себя встать и, завернувшись в одеяло, растирая пальцы от холода, пошла посмотреть на папу. Было часов девять утра. Хотелось есть. Я представила, как зайду, а он стоит у стены и что-то пишет, и я ему скажу: «Иди завтракать». Он мне тогда ответит раздраженно, как обычно: «Не мешай работать, лучше за сигаретами сходи, ночью закончились. Шо, на завтрак опять эта моченая гречка?» — «Да, папа, опять моченая гречка. Газа нет, воду не вскипятишь. Немного кетчупа осталось, я тебе дам, будет вкуснее».
Легче ему не стало. Он молчал, дыхание было все таким же частым, тяжелым, глаза блуждали по потолку, руки беспокойно елозили по одеялу. Пахло в комнате ужасно.
Я дала ему сначала парацетамол с водой, потом принесла из кухни миску с гречкой, скормила несколько ложек с таблеткой успокоительного. Пожевала сама, слушая, как он стучит зубами, перемалывая кашу. Вкус у нее был гадкий, как у сухих опилок, но тянущее ощущение голода в желудке постепенно ушло.
Я торопилась. Нужно было многое успеть. При мысли о том, что придется идти в город, меня почему-то охватывал страх. Стараясь об этом не думать, я вынула из духовки противень, сунула в карман зажигалку, наполнила ведро дождевой водой из ванной и понесла вниз.
Земля во дворе была влажная. Повсюду лежали мелкие обломки бетона, выбитого снарядами из стен.
Я собрала куски мебели, выпавшие оконные рамы, сложила их в кучу на дорожке недалеко от подъезда и пошла искать камни. Отдуваясь и ломая ногти, притащила два больших куска бетона, положила на них противень, и разложила костер. Дерево было влажным, и я еще долго бродила по двору в поисках бумаги или сухих дров. Наконец, забравшись в кухню пустой, разворованной квартиры на первом этаже нашего дома, я нашла на подоконнике толстую обтрепанную поваренную книгу, вырвала из нее десяток самых вкусных страниц, прочитала их, скомкала и подожгла. Огонь заплясал, облизывая остатки шкафов, кресел и книжных полок, испуская дым и согревая влажную землю. Я поставила ведро на огонь и, пока вода грелась, совершила еще один рейд в заброшенную квартиру, нашла пачку кукурузной крупы, туалетную бумагу и главное — довольно большой кусок прозрачной клеенки.
За все это время во дворе не появилось ни одного человека, и меня преследовало неприятное давящее ощущение, что во всем городе осталась только я одна.
Наконец вода согрелась, и я, осторожно обхватив тряпкой ручку ведра, понесла его наверх.
Не понимаю, как папе удавалось устраивать такой хаос в постели. Пока я раздевала его, вытаскивала матрас, простыни, стелила клеенку, тщательно его обтирала мокрой губкой, потом мылила, потом снова обтирала губкой, он и пальцем не мог пошевелить. Лежал тяжелый, как колода, неподъемный, словно все кости его были наполнены песком. Но стоило мне выйти, чтобы нагреть еще воды, как постель его превращалась в звериное логово: простыня скомкана, подушки из-под головы и из-под ноги далеко в стороне от матраса. Как ему, беспомощному, голому, безумному, скованному болью, удавалось это сделать — я не знаю. Это казалось каким-то скрытным, злорадным издевательством, словно неподвижным он только притворяется и вот-вот вскочит на ноги. Я взяла его за руку и, с трудом сдерживая отвращение, тянула его на себя изо всех сил, чтобы приподнять торс и подсунуть под него кусок клеенки и простыню, пыталась ласковым голосом объяснить, что на старом матрасе просто лежать вредно, а простыня мягкая и чистая.
А он смотрел на меня своим пустым скотским взглядом.
Закончив менять белье, я принялась за стирку. Отнесла ведро с водой греться во двор, подбросила дров в костер, вернулась и замочила в остатках воды в ванной снятую с него мокрую одежду, простыни, одеяло и пододеяльник. Принялась их тереть и полоскать. Кто бы мог подумать, что я научусь стирать руками без машинки. Закончив со стиркой, я принялась тереть умывальник, стол, стулья, шкафчики, унитаз. Собирала в угол все папины баночки, блюдца, чашки, ножички, целлофановые пакеты, куда он все заворачивал — узлы на них я ненавидела и разрывала вместо того, чтобы развязывать, — все сложила в одну кучу в углу кухни и накрыла скатертью.
Посмотрела на часы. Было за полдень. Я забыла про больницу. Или просто не хотела выходить в город. Если бы не эти его лекарства... Хотя, может, именно поэтому и не хотела идти — чтобы не приносить лекарств. Не знаю. Потом я подумала, что, может быть, увижу тебя.
Налила папе воды в его фаянсовый чайник, взяла из комода деньги и пошла вниз. Охнула, вспомнила про ведро, стоявшее на костре, начала искать его глазами и обомлела. Костер догорал, но ведра на нем не было. Я заметалась по пустому двору, рассыпая все маты, которым меня научил этот город, но вокруг не было ни души. Я орала: «Черти, где вы?! Отдайте!» Пропавшей воды было жаль больше, чем ведра — каждый литр я добывала с невероятным трудом.
«Дура, дура», — ругала я себя. Но искать воров было некогда.
Дорога из Семеновки шла в город мимо нашего района, и мне каждый раз приходилось идти мимо блокпоста. Был и другой путь, напрямик, через посадку, но говорили, что там кто-то подорвался на растяжке, и я боялась туда ходить.
Через блокпост, кроме военных и скорой, мало кто ездил. Четверо солдат, охранявших его, скучали, расхаживая вдоль бетонных плит и мешков с песком, проверяли документы у редких велосипедистов и сумасшедших прохожих вроде меня.
— Ну хоть сегодня заходите на чай, — крикнули они мне по привычке. — Ну куда же вы так спешите, девушка? — и помахали рукой.
— В больницу надо! Спасибо! — как можно приветливее крикнула я, обходя блокпост, и подумала, что можно будет попросить у них еды. Наверняка у них есть еда.
Один из солдат развел руками.
— Нас сегодня меняют! На Семеновку подкрепление. Ну вы в любом случае заходите!
Я пошла дальше по безлюдной дороге, через лес. Асфальт, выщербленный танковыми гусеницами, деревья в желтых и коричневых осенних листьях — впереди был путь в несколько километров, мимо взорванной во время одного из первых боев бензозаправки, сгоревшего рынка, через большой блокпост на мосту. После этого начинался город.
Что-то в нем внезапно изменилось. Или изменилось давно, но я только сейчас заметила безвозвратность этих перемен. Недавно город, казалось, еще боролся, упрямо выстаивал под натиском снарядов, сохранял униженную, жалкую внутреннюю жизнь, а сейчас будто разом обрушился изнутри. Только стены, пустые оболочки, и от них отпадают куски. Улицы, дома, дворы, квартиры, и до того угрюмые, растерзанные, как будто в одну ночь растеряли остаток своих смыслов и стали значить что-то совершенно другое — не жилища, не укрытия, а ловушки, тюрьмы. Улицы, по которым я ходила, превратились в тупики из бетонных плит и противотанковых укреплений. Люди изменились. Как во сне, отрешенные и полные апатии сомнамбулы, они шли за водой и едой, кто на велосипедах, кто с тачками, притихшие, медленные, серые. Старались не задерживаться на открытом пространстве. При звуке взрыва они останавливались ненадолго, вертели головами, крестились, если взрыв был близко, и шли дальше.
Не понимаю, когда и как все это произошло. Видел ли это все папа? Или это и есть то, как он все видел? Еще вопросы без ответов.
Я наконец-то добралась до больницы. Хотела увидеть тебя, но мне сказали, что ты на выезде, на передовой. Тогда я забрала лекарства и пошла в центр. Было около трех часов дня.
Вдоль улицы росли старые осины и роняли листья в темные лужи. Люди шли по домам, бездомная собака бегала от одного человека к другому в надежде выпросить еду. Я остановилась на автобусной остановке, где возле удлинителя с несколькими тройниками, протянутого из закрытого газетного киоска, сидели люди и заряжали телефоны. Полчаса потратила на зарядку. Посмотрела на часы. Надо было спешить домой, но я решила рискнуть и зайти еще в магазин — кто знает, когда мне теперь удастся выбраться за продуктами. В городе оставались открытыми три, может, пять небольших магазинов и маленький утренний рынок, который я уже пропустила. Магазины закрывались с наступлением сумерек. Я пробежала через безлюдную центральную площадь, остановилась на минуту у памятника Ленину. Постамент весь был обклеен черно-белыми распечатками с портретами погибших солдат, рядом лежали засохшие цветы. Пока я рассматривала портреты в поисках знакомых лиц, подошла женщина, встала напротив памятника и, воздев глаза к Ленину, перекрестилась. Может быть, у нее кто-то погиб, может, просто дура. Я побежала дальше. Окна магазина были забиты листами фанеры, у входа выстроилась небольшая очередь. Я остановилась, переводя дыхание. Успела. Спросила женщину впереди:
— Что там?
Женщина пожала плечами:
— Что есть, то и будем есть.
Минут через пятнадцать я зашла в магазин и стала осматриваться.
На пустых полках стояло по одному ряду рыбных и овощных консервов, в холодильнике лежали десять сосисок, три палки колбасы, несколько кружочков кровянки. В отделе напитков — та же картина: с десяток литровых бутылок воды, пива и просроченного кваса. Но зато в большом деревянном ящике у кассы, поближе к продавщице, — настоящие сокровища: хлеб и лотки со свежими яйцами. Продавщица заперла входную дверь, оставив открытым только маленькое окошко, и ждала, пока выйдут оставшиеся покупатели. Солдат в камуфляжной куртке, кепке, с автоматом на плече поставил на прилавок две бутылки пива. Она молча указала ему на надпись: «Продажа алкоголя военнослужащим запрещена». Солдат перегнулся через прилавок и что-то зашептал ей на ухо. Она прыснула, махнула рукой, взяла у него деньги, спрятала в целлофановый пакет бутылки, вынула из-под прилавка бутылку водки, тоже положила ее в пакет и протянула ему. Он ушел, посвистывая и улыбаясь.
Наконец-то подошла моя очередь — я была последняя. Денег хватило на половину того, что я набрала. Долго думала, что выложить. Сосисками, сметаной, кофе и моющим средством пришлось пожертвовать. В маленькое окошко я видела, как на улице стремительно темнеет.
Когда я вышла из магазина, город окончательно опустел — ни прохожих, ни велосипедистов, ни редких машин. Стало тихо, как между замедлившимися ударами сердца, только шуршание ветра и редкий далекий рокот — эхо начинающегося боя. Я торопливо побежала по улицам: некоторые еще были освещены фонарями, другие уже погрузились в темноту. Мост, сгоревшая заправка. Когда я вышла на лесную дорогу, ведущую домой, развязался бой. Грохотало совсем рядом, и иногда под ногами содрогалась земля. Я приседала, закрывала голову руками и ждала, пока пройдет дрожь. В такой же позе я терпела папины удары в детстве. Сейчас я сидела и смотрела в землю. Ее темная твердая поверхность успокаивала меня, защищала. Было очень страшно. Потом дрожь и взрывы ненадолго заканчивались, и я шла дальше.
Блокпост, как обычно, я обошла стороной. Внезапно в спину мне засветил фонарь, раздался крик «стоять!», следом короткая, хлесткая очередь из автомата. Ударов пуль не было слышно, значит, стреляли в воздух.
Я остановилась, подняла руки вверх, не выпуская пакет с продуктами и лекарствами, и повернулась.
Фонарик со стороны блокпоста начал медленно приближаться. Широкоплечая фигура выросла из темноты, незнакомый голос гаркнул:
— Кто такая? Документы показывай!
— Своя, — сказала я и судорожно начала шарить свободной рукой по карманам куртки.
На блокпостах, особенно на этом, у меня никогда не проверяли документы, потому что знали в лицо.
Флага над баррикадами в темноте не видно. Мог ли блокпост перейти в другие руки, пока меня не было? Я не могла найти паспорт и продолжала лепетать:
— Да я местная, рядом живу, вон дом, — показала в сторону дома и продолжила шарить по карманам. — Я каждый день хожу.
— Ты мне зубы не заговаривай, паспорт показывай.
Сердце колотилось, как бешеное, паспорта в карманах не было, не было и в пакете. Может, я его оставила в больнице, может, дома забыла. Солдат приблизился и навис надо мной. Упер автомат в живот.
— Дома паспорт, — взмолилась я, — дома забыла, сейчас принесу. Тяжелая рука легла мне на плечо и сдавила.
— О-о-о, — протянул он, — у нас сегодня подарочек, — и, повернувшись назад, крикнул: — Серый, давай сюда! Корректировщицу взяли! Шаркая, к нам приближалась еще одна фигура — сутулая, пониже.
В свете фонарика поблескивал автомат.
— О, какая киса! — сказал он скрипучим слащавым голосом, поравнявшись с солдатом, державшим меня. — А что это ты тут делаешь в комендантский час?
— В больницу ходила, вот лекарства, — я протянула им сумку, показывая лекарства. — У меня отец дома лежачий, мне долго нельзя. Он там один. Отпустите, я же вот тут живу, два шага.
— В комендатуре будешь рассказывать свои истории, — перебил меня державший за плечо и сжал руку так, что я вскрикнула, а он повернул голову и снова позвал. — Серый, ты где? Давай сюда рацию.
— Зачем в комендатуру? — предложил скрипучий голос.
Похоже, это был не Серый. У меня еще оставался шанс, что тот, третий, меня знает. К моей шее протянулась холодная худая рука, потом спустилась ниже и начала обшаривать грудь.
— Мы и тут разберемся, — булькал слащавый голос, — мы тут ее разденем, маячок поищем. Знаешь, с*ка, что мы с такими, как ты, делаем, кто на хунту работает?
Рука, державшая мое плечо, на секунду разжалась, и, подчиняясь инстинкту, я отпрянула назад, повернулась и хотела побежать. Меня тут же схватили за волосы, дернули, подмяли под себя и скрутили. Пакет с продуктами упал. Две фигуры, светя фонарями, склонились надо мной, стянули со спины рюкзак, потом куртку. Слезы текли ручьем и впитывались в грязь. Я еще пыталась сопротивляться.
— Вы не понимаете, мне надо домой, там папа — отпустите! Было невыносимо обидно, что меня некому защитить.
— Стой, Калаш, подожди, — раздался еще один голос.
Он был молодым и звучал знакомо.
Калаш — так, видимо, звали того, кто меня скручивал, — схватил меня за волосы, резко потянул на себя, поставил на колени и осветил лицо фонарем. Я вскрикнула. Шея изогнулась дугой.
Молодой голос зазвучал раздраженно.
— Калаш, перестань, бл*дь, над людьми издеваться, я знаю ее. Я же знаю вас. — Сначала я видела только его ноги, он присел на корточки и улыбнулся. — Мы же с Ником вам помогали мебель выносить из квартиры, помните? Калаш! Кирпич, ты тоже хорош, гусь еб*чий, отдай ей куртку. Да подними ее!
Калаш тяжело и влажно дышал мне в ухо, заламывая за спиной руки, продолжал давить на меня своим весом.
— А-а-а-а-а-й! — я взвизгнула.
— Калаш, бл*дь, говорю тебе, своя! — заорал молодой человек.
Руки сзади разжались. Я шлепнулась лицом в землю. Парень помог мне подняться и подобрал пакет с продуктами. Половина яиц разбилась. Щека, которой меня прижимали к асфальту, была оцарапана и болела.
Я вытерла слезы, размазывая грязь по лицу.
— Дай сюда, Кирпич! — Он вырвал мою куртку из рук тощей, лысой, осклабившейся золотыми зубами тени. Помог продеть руки в рукава, отряхнул.
— Не сердись. Мы как заступили, по нам сразу начали стрелять из минометов.
Как знали. И с каждым выстрелом все ближе, ближе. Вот мы и просекли, что рядом корректировщик. Весь вечер высматриваем.
Я боязливо оглянулась на Калаша и Кирпича, стоявших у меня за спиной.
— Я в городе была, в больницу ходила. Папа бедро сломал. Не ходит. — Это который с тобой жил? Я думал, это твой дед.
— Нет, папа.
— Ага, помню его, ворчливый такой, чудной старикан.
— Точно, ворчливый.
Мне хотелось уйти, но мужчина, похоже, был настроен поговорить.
— А ты Ника помнишь? Ну тот, что со мной был.
— Помню.
— Убило его. В мае, одним из первых убило. Мы с ним в одном взводе были, на Андреевке стояли, там, где бронепоезд, знаешь? Во-во. Разорвало ПТУРом его. Вот. Мы сложили его в коробку из-под обуви и послали маме. Говорят, она плакала, просила открыть, но так и не открыли. Похоронили как было.
— Какой ужас, — сказала я.
— Никто по пехоте ПТУРами не стреляет, — сказал Калаш.
— Что такое ПТУР? — спросил Кирпич.
Я подумала, что, наверное, видела сегодня портрет Ника, приклеенный к памятнику Ленина, и не узнала.
— Ужас — не то слово, — продолжал молодой человек. — Мы потом в окопе сидели и тряслись от страха. Высунуться не могли. Мы с ним с детства дружили. В войнушки играли.
— Ладно, хорош п*здеть, Серый, — перебил его Калаш.
— Э-э-э-эй, где твои манеры? — силуэт у Сергея был совсем еще мальчишеский.
Над дорогой покатился грохот. В лесу недалеко от нас приземлился снаряд.
— Ладно, ну давай, иди домой. Не прощаемся. У нас не принято.
— Давай, сладенькая, — прокудахтал Кирпич и шлепнул меня по заду. Они выключили фонарики и зашагали обратно к блокпосту.
«Я тебе еще дам, паскуда золотозубая», — подумала я, подобрала рюкзак и поковыляла домой.
Во время войны все-таки лучше прощаться. И всегда слова говорить друг другу только такие, чтобы за них не было стыдно, если они окажутся последними. Это не моя мысль.
Я подошла к подъезду и вгляделась в одно-единственное светящееся окно. Папина комната. Мне стало трудно дышать. Я смотрела на светлый квадратик окна без штор, на тусклую лампочку под потолком, и не понимала, как такое может быть. Потом немного успокоилась: в подъезде тоже горел свет. Скорее всего, вчера ночью я щелкнула выключателем и забыла.
Я заставила себя пойти наверх. В коридоре и кухне было светло, паспорт лежал на столе. Папа не спал, что-то шептал и шарил глазами по потолку. Я выключила свет, зажгла свечи, помыла руки, разложила лекарства на полу и сделала папе два укола в мышцу. Потом поменяла мокрую простыню.
Расшатанные оконные рамы подрагивали от порывов сильного ветра. Снова пошел дождь. От дрожащего на сквозняке огонька свечи комната наполнялась движением, тени блуждали по папиному лицу, то зло кривившемуся, то улыбавшемуся каким-то своим видениям. В моей никак не желавшей успокоиться груди тоже все дрожало от напряжения.
— Папа, ну спроси меня, как мой день? Он молчал.
— Па, ты извини, что я опоздала.
Он молчал.
— Представляешь, меня чуть не арестовали. На блокпосту сменились солдаты. А я паспорт дома оставила.
Он молчал.
— А знаешь, что мне наговорили сегодня в очереди? Хочешь, расскажу? В Снежном дом обрушился. Целый подъезд. Как карточный домик, представляешь? Говорят, авиабомба. Еще говорят, родственники комуто звонили, с той стороны привезли «ураганы» и «точка У», но я не верю. Хотя мы и в танки не верили, и в пушки не верили.
Он молчал. Я не знала, что сказать.
— Еще говорят, к нам целый батальон чеченцев приехал. Мужчин на фронт забирают, а кто отказывается — окопы копают. Наступление в воскресенье начнется. На этот раз уже точно.
Он молчал.
В молчании прошло, наверное, около часа, и я задремала, сидя в своем углу. Ни ветра, стучавшего расхлябанными окнами, ни звуков с передовой я не слышала в это блаженное время. Меня разбудил его крик. Я вскинула голову, он полусидел на своем ложе и смотрел на одну из стен. На улице было темно. Свеча догорала. Его губы дрожали.
— Ты когда-нибудь убивала человека? Я убью человека.
Он показал дрожащим пальцем на большой кружок, в котором была только одна буква с точкой.
— Кого, папа? Когда ты убьешь? — спросила я, протирая глаза.
— Доктор сказал, еще месяц. Но я хочу убить его сегодня. Потому что он убийца.
Я подошла к нему и всмотрелась в его лицо.
— Папа, как ты себя чувствуешь?
— Почему ты не отпустила меня? Еще минут сорок, и я бы ушел. Сорок минут. Там было темно. Почему ты меня не отпустила?
В первый раз за долгое время он смотрел мне прямо в глаза, а не насквозь.
— Доктор сегодня приходил? Ты вызывала? Когда он придет, скажи ему, пусть даст мне ту самую таблетку. Зачем мне такая жизнь?
Я не могла понять, бредит он или его мышление настолько обострилось, что он вводит в речь метафоры. Теперь он смотрел каким-то злым, хитрым взглядом, словно испытывал.
— Вчера пришел врач и прописал тебе уколы и таблетки. Вот они, — сказала я ему, — но это не те таблетки. Те таблетки тебе никто не даст. Выражение его лица стало холодным и отчужденным.
Думаю, он почувствовал свое состояние, хоть и не вполне мог различить грань между нормальным мышлением и помешательством. Скривившись, он выдавил из себя:
— Маленькая тварь. Вызови мне невропатолога.
— Невропатолог занимается только инсультами. У тебя нет инсульта. Тем более, откуда в городе сейчас невропатологи?
— Вызови еще раз, мне надо что-то сделать с головой.
Я не знала, с чем связано было его улучшение. Пошла в кухню, вылила все, что осталось в пакете от разбитых яиц, на сковородку и поставила ее на электрическую печку. Остальные яйца сварила, на случай, если свет снова отключат. С наслаждением съела половину яичницы, просто с солью, закусывая хлебом, заварила чай и испытала настоящий прилив счастья от его крепкого вкуса и теплоты чашки. Только сейчас я поняла, что весь день мерзла и почти ничего не ела и не пила.
Закончив ужинать, я принесла ему еду и чай.
Он перестал ворочаться. Жар тоже ушел. Послушный, он молча ел, усердно пережевывая каждый кусочек, и, казалось, изо всех сил сдерживал злобу, боясь, что я его брошу. И поэтому молчал.
— А помнишь, папа, — сказала я, отправляя ему очередную ложку в рот и глядя, как он перемалывает ее, постукивая зубами, — как лет пятнадцать назад ты побил меня за то, что не мог найти свою чашку? Ты решил, что я ее разбила. Ты был пьяный. Мама была на работе. Она работала на всю семью. Бабушка — в комнате. Мы были вдвоем в кухне, ты загнал меня в угол и молчал, словно по глазам моим хотел убедиться, что я вру. Затем размахнулся, долго держал руку в воздухе, ожидая признания. Я ничего не говорила, и ты ударил меня с размаху ладонью по лицу. Мне было тебя жалко. А себя — нет. Потому что я и правда ее разбила. Специально, чтобы разозлить тебя. Давно хотела тебе рассказать.
В руке у меня был нож.
Я разрезала таблетку феназепама, проглотила половину, затем подсунула руку под папину голову и приподняла ее над подушкой. Нож все еще был у меня во второй руке. Он не сопротивлялся. На несколько секунд мы так замерли. Потом я отложила нож, взяла таблетку, он приоткрыл рот, обнажая потемневшие зубы и распухший язык. Бросила таблетку и залила остывшим чаем. Он шумно глотал, хрипя, схватился рукой за мое запястье и пытался контролировать, сколько я лью ему в рот. Я лила, пока чай в чайнике не закончился. Вытерла ему рот. Положила голову обратно на подушку.
— Вот так, папа. Молодец. Я не виню тебя.
Я вышла из комнаты и вернулась с сигаретами и пустой чашкой. Вставила ему в рот сигарету и зажгла.
— Помнишь, почти при каждом скандале с мамой ты показывал на меня и говорил ей: «Нах*я ты завела этого ребенка!» Иногда ты добавлял: «Это вообще не моя дочь. Ты с ней приехала сюда. Вот теперь расхлебывай!» Х*ровое чувство было. Хотя в детстве я не понимала почему. Просто плохо и все. Без объяснений. Не думаю, что ты серьезно это говорил. Ты не сомневался в маме. В ее любви невозможно было сомневаться, и поэтому ты старался ранить ее еще глубже, потому что не умел любить, так как она любила. Слышишь, папа, ты просто не умеешь любить.
Он смотрел на меня неподвижно, не произнося ни слова. Сигарета дымилась, он часто дышал, но не затягивался. Пепел опал, покатился по его заросшей седой щетиной щеке прямо на простыню, прожег дырку. Я торопливо сгребла его ладонью на пол. Забрала сигарету и потушила в чашке.
Папа не шевелился, только дышал и смотрел куда-то мимо меня.
Я подтянула одеяло до самого его подбородка, подоткнула под матрас, сверху накрыла курткой. И, шатаясь от неожиданно разлившегося по телу расслабления, отправилась спать. Раздумывая, как хорошо подействовал феназепам, я бормотала: «В воскресенье наступление. А вдруг и правда в воскресенье наступление».
Для детей очень важны повторения, я где-то читала. Режим. Не знаю почему. Возможно, потому, что им хочется найти систему, понять законы, по которым строится жизнь. Важно знать, что будет дальше. В детских воспоминаниях у нас отпечатываются повторения, семейные традиции, плохие и хорошие. Что-то, о чем можно сказать «всегда» или «каждое воскресенье». Например, когда я была маленькой и не могла заснуть, мама «всегда» делала мне «пуговку». Брала мою руку и водила указательным пальцем по кругу в середине ладони, и мне становилось спокойно, я сразу засыпала. Или мама «никогда» не плакала, когда он бил ее. Или в доме «всегда» было идеально чисто. Папа был помешан на уборке. Утром в воскресенье он «всегда» жарил блины, они лежали высокой стопкой на столе в широкой тарелке с желтой каймой, и их мягкий запах плыл по квартире. У меня «никогда» не получалось такой хрустящей корочки по краям. Господи, что я несу. Как же мне освободиться от всех этих воспоминаний, от этих «всегда»? Как мне освободиться от этого города? Ты же такой умный, скажи мне.
***
Чтобы читать эксклюзивные истории