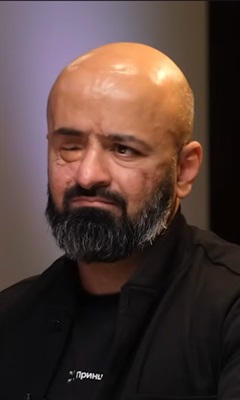Я выезжала из оккупации через 25 блокпостов РФ. Выворачивали всё, даже прокладки и помаду

Виктория — мать и жена украинских военнослужащих. Сама родом из Мирнограда Донецкой области, закончила Донецкий национальный медицинский университет. После вторжения России в Украину полтора месяца прожила в оккупированном городе на Херсонщине и с трудом выехала, когда российские солдаты начали «отрабатывать» списки семей бойцов ВСУ.
В последний раз разговаривала с сыном 22 февраля
Как я узнала, что началась война? Это был взрыв. Звук был похож на тот, который издает поезд, когда останавливается. Но почему-то эти звуки повторялись часто. И тогда поняла: это не поезд. Выбежала на улицу. И увидела, что там, где Чонгар, зарево. Тут муж позвонил и сквозь шум взрывов я услышала: «Началась война, в нашу сторону идут 500 российских танков».
Я не плакала. Когда человек в шоке, вырабатывается столько адреналина, что он не способен проявить такую слабость, как слезы. Страх был только за сына и мужа. До сына я не дозвонилась. Последний раз с ним разговаривала 22 февраля. Вот с тех пор я не видела и не слышала его.
Началась жизнь в оккупации. Сирен не было. И по сравнению со всей Украиной, эту жизнь можно было бы назвать относительно мирной. Если не учитывать то напряжение, которое было просто осязаемым. Его можно было почувствовать, взять в руки.
В городе что-то купить можно было только за наличные средства. Банковские карты после начала оккупации принимали ровно два дня. Дальше, есть у тебя наличные, что-то купишь, нет – ходи голодный. Еще, наверное, пару недель можно было снять деньги с банкомата Приватбанка. Весь день, с самого утра, нужно было выстоять в очереди, а это человек 300.

Хлеб в городе был. Работали местные пекарни. Мясо привозили из сел. И цена на него была довоенная. Но все остальное стало дороже раза в три. Колбаса вареная 500 гривен. Сахар 75 гривен. А средства гигиены еще по более заоблачной цене. Дезодорант почти 200 гривен. Под аптеками несколько дней были огромные очереди. Когда лекарства закончились, очередей тоже не стало.
Оккупационным властям гуманитарные проблемы не интересны. Никаких поставок чего-либо в город не было. Никакие гуманитарные грузы, в том числе лекарства, они не пропускали. Зато кругом блокпосты, военные. Техника, оружие, комендантский час. Что будет завтра — непонятно.
Каждый день я ездила из Новоалексеевки в Геническ на работу через эти блокпосты. Психологическое давление ощущалось постоянно. Ты не знаешь, что будет на очередном блокпосту. Нас останавливали, проверяли документы, сумки. Мужчин заставляли выходить из автобусов, раздеваться. Какие-то татуировки у них искали. И постоянно наши фамилии они сверяли с какими-то списками.
Выглядело это так. Заходят на блокпосту в маршрутку, каждый дает свой паспорт, а они говорят: «Скоро будете менять паспорта на российские. Или не будете?». А все люди молчат. Слова боятся сказать. Не то скажешь, выведут и куда денут – не ясно. Один раз я чем-то не понравилась. Вывели из маршрутки. У меня уже колени подгибаться начали. Проверяли мой паспорт. На свет смотрели. И какие-то вопросы дикие: «Зачем еду на работу? Рада ли, что нас освободили?»
Медицинский колледж, где я работала, закрылся. И я стала подрабатывать в частной оптике. Однажды они зашли к нам, сказали: «Вы должны быть готовы к тому, что будете работать по нашим правилам. Скоро будут рубли. А ваши гривны никому не нужны. Смотрите, будем контролировать. Возражения не принимаются».
Полтора месяца я, практически, не спала. Находилась в доме одна с собаками. Началось мародерство. Начали обчищать дома. Это тоже было страшно.
Я стала бояться за себя. У меня двое военных. Я понимала, что ко мне придут
А потом начались обходы по дворам, поиски украинских военных. У россиян были какие-то списки. Откуда они у них появились, я могу только догадываться. Эти списки помогли сформировать люди, приближенные к власти, переметнувшиеся на сторону оккупантов.
К одной знакомой пришли. У нее тоже муж военный. Женщина была с двумя детьми. Муж служит. Перерыли весь дом. Искали какие-то вещи. Это было несколько часов. Все знали, что они там. Но кто пойдет её защищать? Что с женщиной и детьми, я не знаю. Спрашивать у кого-то об их судьбе страшно.
А однажды ночью началась стрельба из автоматов. Они узнали, что тут живет ветеран АТО. Сначала стреляли по его окнам из автоматов. Потом зашли в подъезд, где он жил. Выгнали всех людей. А его квартиру прямо с огнемета взорвали. Парень погиб. Все соседи молчат, даже комментировать страшно. Вдруг кто-то донесет, что ты сочувствуешь и не согласен с тем, что они творят?

В селе постоянно была автоматная стрельба. Мне казалось, что эти списки просто преследуют меня. Находишься дома, идешь по улице, едешь на работу и не знаешь, есть ли ты в этом списке. Я стала бояться. К страху за мужа и сына, с которыми не было связи, впервые с начала войны прибавился страх и за себя.
С каждым днем людей на улицах становилось все меньше. В местных группах в соцсетях водители постоянно выкладывали объявления о том, что в определенный день собирают группу людей и везут в Запорожье. Я позвонила. Мне сказали: послезавтра едем. Послезавтра было в пятницу, 8 апреля.
Вы только скажите, мы его сразу расстреляем
Собраться не сложно, сложно решиться это сделать. Небольшой дорожный чемодан на колесиках, документы и дамская сумочка. Это всё. Цели набрать побольше вещей не было. Из дому вышла и понимаю: мой дом тут, на оккупированной территории. Я сейчас закрою дверь и, может быть, никогда уже не смогу ее открыть. Но что такое дом, если в нем не соберется моя семья?
Выехать из Геническа можно было только в Запорожье. Ехать через Мелитополь. Проезжать некоторые села Запорожской области, которые под российской оккупацией. И только конечная точка пути — украинская территория.
Выстроилась колонна из четырех микроавтобусов. За ними стали и легковые машины. Мужчин на тот момент из города еще выпускали. В одной из машин ехала молодая семья с тремя детьми. Мужчина за рулем.
Все, кто утром пришел к местному магазину АТБ 8 апреля, понимали, что дорога опасная. Здесь тихо, но ходят эти «зеленные человечки» со своими списками. А там — война. И доедешь ли до Украины, гарантий не даст никто.
Первый блокпост на выезде из города. Они же понимают, что мы отсюда уезжаем. Тщательно проверили каждую машину. Раскрывали багажники. Пересматривали вещи. Осматривали даже мою дамскую сумочку. Доставали прокладки, открывали помаду. Неприятно это всё. Так на каждом блокпосту. Еще они постоянно несли какой-то бред: «Мы ж вас пришли освобождать. Куда вы едете?». А мне как-то сказали «Берегите себя».
Если не обращаются ни к кому конкретно, все просто отмалчивались. А если требовали ответа, то каждый говорит что-то вроде того: к маме еду, к сыну. В общем, цель поездки — посещение родственников. Никто не геройствовал и, наверное, корежило от происходящего всех. Но молчали.
В нашем микроавтобусе ехала женщина с 16-летним сыном. Мальчик рослый, но видно, что подросток. Кто знает, что на уме у человека с автоматом? Мне кажется, мама парня боялась больше других.
В моем паспорте написано, что родилась в Донецкой области. На части блокпостов стояли «ДНР»-овцы. И они так с удивлением: «У! Донецкая область, и куда направляемся? Зачем?»

Конечно, некоторые российские военные просто проверили документы и пожелали удачной дороги. Но была и масса неадекватных. Один зацепился с нашим водителем. Все ему хотелось выяснить, за сколько он нас везет. Требовал ответа от всех. Кричал: «Он мародер. Он с вас три шкуры дерет, чтобы вас отвезти. А знаете, что вас там ждет? Вы только скажите, мы его тут же расстреляем». Водитель и молчал во время этого, и говорил: «Да все нормально, я простой водитель, везу мирных людей. Разве они не могут ехать, куда хотят?»
Мы же все тряслись, как мыши. Я врач, понимаю, что у этого «зеленого человечка» нарушена психика.
До украинской территории было 25 блокпостов. До поворота с Бердянска на Запорожскую трассу. Ехали очень медленно. 200 километров были просто бесконечными. Мы едем. Блокпосты. Проверки. Вопросы. А вдоль дороги сгоревшие автомобили. Я не знаю, сколько их было. Только понимаю, что это все люди, которые пытались проехать по дороге, по которой еду сейчас я.
Автобусы ехали, люди шли пешком. А рядом все взрывалось
Перед одним блокпостом остановились. Стоим в очереди. Медленно продвигаемся. И я вижу: стоит одна машина. Она целая. Только в лобовом стекле два отверстия от пулевой стрельбы. Два выстрела в упор. С водительской стороны и со стороны переднего пассажира. Понимаете, не минометный обстрел, не артиллерийский. Это два выстрела из пистолета.
Какие-то люди стоят на дороге, кто-то говорит: «Проезжайте быстрее. Вчера сюда, где вы стоите в машину попали. И она сгорела. Вот она, ее оттянули с дороги». А как проехать быстрее, очередь. И пока они не осмотрят впереди едущую машину, никто двинуться не может.
Блокпосты на каждом ответвлении дороги, на каждом перекрестке. Машин, двигавшихся в сторону Запорожья, было очень много. Наша колонна сразу стала огромной. Так мы медленно продвигались, как мне казалось бесконечным потоком. Навстречу нам транспорт, практически, не попадался. Желающих заехать на оккупированную территорию гораздо меньше, чем выехать с нее.
И вот последний российский пост перед украинской территорией. До Запорожья еще не доехали. Перед нами стояли два эвакуационных автобуса из Мариуполя. Их не пропускали. Этот зеленый коридор, обещанный, никто им не давал. Сами автобусы целые. А люди измученные.
Конечно, не пропустили и нас. Наш водитель сказал, что так здесь постоянно. Вы просто не представляете это чувство: мы проехали 200 километров, осталось, буквально, несколько сотен метров — и Украина, а нас не пропускают! Я думаю, неужели возвращаться назад? Неужели нас повезут туда, откуда мы выехали?

Не успела я до конца осознать весь ужас ситуации, как наш водитель говорит: «Держимся, девочки! Прорвемся!». Держаться пришлось и в буквальном, и переносном смысле. Все мы, и эти два автобуса развернулись, но не поехали назад, а свернули в поле. То есть водители приняли решение добираться до Токмака, Орехово проселочными дорогами. И вот эти неведомые никому тропы мы и стали штурмовать.
Ну, вот до войны, как было? По этим дорогам, видимо, сельхозтехника двигалась, какой-нибудь фермер к своим полям ехал. А тут колонна из микроавтобусов, легковых машин и двух огромных автобусов с мариупольцами. И все едут по проселочной дороге. Но страшно не это. Страшно то, что впереди.
Поехали по первой полевой дороге. Водитель говорит: «На прошлой неделе мы здесь проезжали. Может, повезет и сегодня». А тут, оказывается, уже стоит какой-то российский блокпост. Они уже узнали эту дорогу и тоже стали ее контролировать. Нас не пропустили. Слава Богу, не расстреляли.
Была надежда, что какая-то из дорог выведет на украинскую территорию
Развернулись. Я думаю, неужели нужно ехать снова к тому блокпосту? Но до той дороги на Запорожье не доехали. Снова повернули на какую-то проселочную тропу. Едем. Все вроде бы в порядке. Мне уже даже кажется, еще чуть-чуть — и выедем.
И тут снова русский блокпост. И снова нас не пропускают. Первая машина доезжает до блокпоста. Там говорят: проезда нет. И вся колонна: бусики, легковые автомобили, два этих огромных автобуса начинают пятиться. Водители сдают задом. Потом на поле разворачиваются. Слава Богу, было сухо. Никто не застревал при таких маневрах.
Знаете, это дороги между посадками. Когда едешь, с одной стороны посадка. С другой стороны поле. И оно уже начинает зеленеть. А сверху яркое, прямо сильно яркое для такой ситуации небо. И неизвестность. Есть ли дальше русский блокпост? Или снова нужно возвращаться?
Третья дорога. Едем дольше, чем по тем двум. Мне уже не кажется, что мы выберемся. Я эти мысли отгоняю, чтобы потом не было больно. Тут у одной машины лопнуло колесо. Все остановились. Как-то быстро, мне кажется, за считанные минуты поменяли. Поехали дальше. Позже сломалась какая-то легковая машина. Ее быстренько подцепили на трос и потянули. Никого из колонны не бросили. Такая взаимовыручка была. Люди же все незнакомые друг другу, не считая водителей микроавтобусов. Но как-то одна цель, одна беда всех объединила. Не было разговоров: а ты куда и к кому? Было просто дело и желание двигаться дальше.
Едем назад. Я уже не понимаю, были мы тут или нет. Куда-то сворачиваем, куда-то движемся. И вот тут уже даже не проселочная дорога, какая-то звериная тропа. Все едут, кроме автобусов. А они не могут проехать. Автобус тяжелый, людей много. И он просто днищем с таким каким-то могильным скрежетом царапает землю. Это слышно и нам, в нашем бусике.
Все останавливаются. Водители двери открыли, кричат, что людям из автобусов нужно выходить. И идти тут пешком. Иначе никак. Все мариупольцы выходят из автобусов. А те даже не едут, ползут. Люди идут рядом по полю.
И тут начался артиллерийский обстрел. Русская сторона обстреливала украинскую. Бахало рядом с нами по этим полям, что по правую руку, перелетало и за посадку. Мы видели эти взрывы. Когда земля поднимается вверх таким фейерверком, а потом медленно падает.
Желание у всех одно: убраться подальше от окон. И, видимо, на пол хотел бы лечь каждый. Но, сколько человек поместится на полу микроавтобуса? Правильно? Один. Поэтому все просто вжимались в свои кресла. Наклонялись, как можно ниже. Наверное, голову я руками прикрывала. Не помню.

Водитель говорит: «Ничего-ничего. Сейчас мы проскочим, будет все хорошо». Шутил: «Кому там валерьянки накапать? Или потерпите, пока вас вывезу отсюда? Если нет, скажите – остановлюсь и валерьянки дам всем, кому она нужна».
Они не первый раз так ехали и для них эта ситуация была нормальной. Они всегда вывозили людей под обстрелами. Не знаю, насколько эти 3000 с каждого за проезд были для них оправданы, я понимаю только, что когда-нибудь может и не повезти, можно не найти эту дорогу жизни.
Я так понимаю, эта наша дорога проходила по серой зоне. Сколько длился обстрел, я не знаю. Мариупольцы бежали. Лица у всех такие сосредоточенные. Они, бедные, до этого настрадались. А им даже не дают возможности проехать нормально. Их много было — пассажиры двух автобусов. И дети, и взрослые. У каждой мамы по 2-3 ребенка. Большинство дети до 7 лет. А мы видим их в окно, и я понимаю, что в этой ситуации, когда я еду, а они бегут, нам еще более-менее нормально.
Едешь и понимаешь, что это не может длиться бесконечно. Была ли надежда, что какая-то из дорог выведет на украинскую территорию? Наверное, конечно, была. Я не помню этого. Знаю, что напряженное ощущение страха было в то время главным.
Никто не плакал. Просто у всех было шоковое состояние, когда ты не способен ни на что, только на страх. Эмоции уместны, когда ты уже что-то пережил и организм пытается расслабиться. 10 часов мы петляли по этим дорогам. Целых 10 часов.
В общем доехали. Тут нас уже встречали украинские военные. Какое-то село. Мне кажется, Луговое. Но могу и ошибаться. На украинской территории нас уже никто не останавливал. Мы доехали до Запорожья.

Когда доехали до Запорожья и увидели своих военных, было только чувство радости. Мы никого из них не знали, но после такой дороги, после долгого пребывания под оккупацией, после российских солдат, когда увидели своих, просто испытывали чувство какой необъяснимой радости: всё, наконец-то наши.
Это была уже глубокая ночь. Расслабились. Мы ехали в таком напряженном страхе, что не было никаких человеческих чувств. А здесь страх отпустил. Первый раз за всю дорогу людям захотелось выпить воды. Некоторые даже смогли поесть.
После Запорожья я ехала эвакуационным поездом дальше, добралась до мамы. И первый раз с начала войны заснула.
Мой сын — украинский пограничник. в ночь с 23 на 24 февраля он был на службе. Точных данных у меня о нем нет до сих пор. Удалось связаться с девушкой, которая была в ту ночь в смене вместе с ним. И та сказала, что он ранен и находится в плену. Это все, что я сейчас знаю о судьбе своего сына. Мой муж тоже военнослужащий, он на фронте, мы не видились с ним уже четыре месяца.